........Бенджамен Бухло. Образы власти, шифры регрессии. Заметки к возвращению репрезентации в европейской живописи
......... Публикуем перевод статьи немецкого философа и художественного критика Бенджамена Бухло, который впервые был опубликован в Бюллетене художественной критики Термит №2.
Кризис заключается в том самом факте, что старое умирает, а новое не может родиться; в этом междуцарствии вспыхивают самые разнообразные болезненные симптомы.
Антонио Грамши,
Тюремные тетради
Тюремные тетради
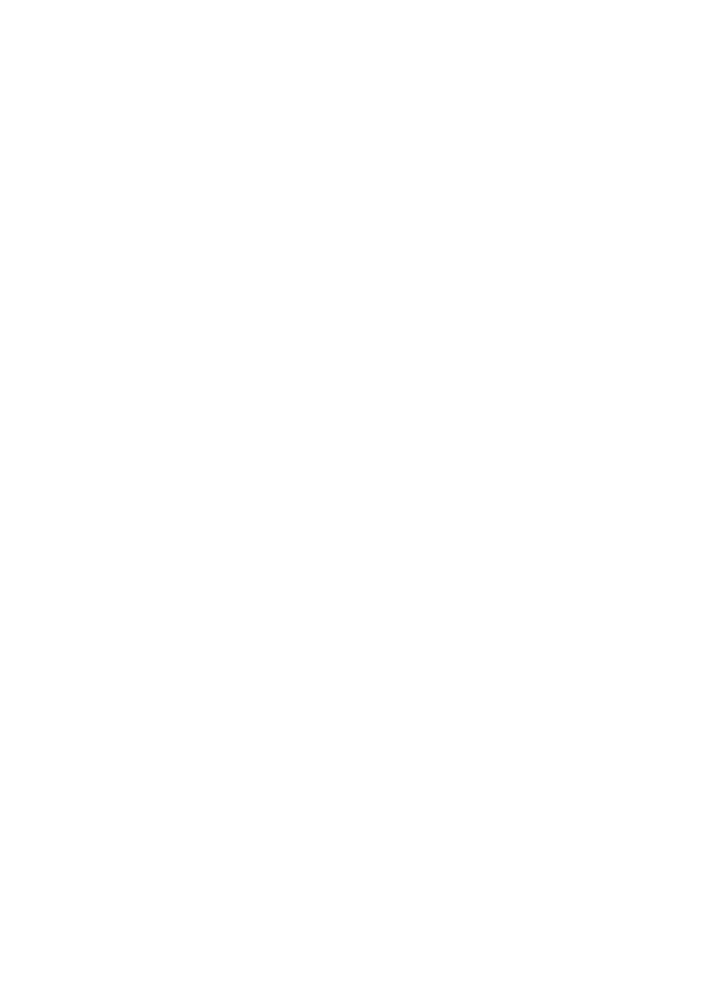
......... Как так вышло, что нас практически насильно заставляют поверить, что возвращение к традиционным режимам репрезентации в живописи около 1915 года, спустя пару лет после реди-мейда и «Черного квадрата», имело величайшее историческое и эстетическое значение? И почему это рассматривается как независимое достижение мастеров, которые на самом деле прислуживали публике, алчущей реставрации визуальных кодов узнаваемости, восстановления фигуративности? Если перцептивные конвенции миметической репрезентации — системы организации визуального и пространственного порядка, регулировавшие изображения, начиная с Ренессанса, и систематически разрушавшиеся с середины IXX столетия, — были возрождены, если они вновь обрели убедительность и если иерархия отношений «фигура — фон» на изобразительной плоскости снова предстала «онтологическим» условием, то что же успели сказать другие системы вне эстетического дискурса, чтобы обеспечить новым визуальным конфигурациям историческую достоверность? В какой последовательности на самом деле возникают эти цепочки феноменов реставрации, как они связаны друг с другом? Существует ли между ними простая причинная связь, механическая реакция, при которой растущее политическое давление неизбежно и необратимо порождает традиционную репрезентацию? Обязательно ли ужесточение ограничений в социоэкономической и политической жизни ведет к гнетущей анонимности и пассивности навязчивых миметических методов, что наблюдается, к примеру, в европейской живописи середины 1920-х и начала 1930-х годов?
......... Конечно, кажется, будто позиции Neue Sachlichkeit или Pittura Metafisica открыли дорогу окончательному триумфу таких безусловно авторитарных стилей репрезентации, как фашистская живопись в Германии и Италии или социалистический реализм сталинской России. Когда Георг Лукач рассматривал взлет и падение экспрессионизма в своих «Проблемах реализма», он, по-видимому, осознавал связь данных явлений, хотя и не прояснил фактическую систему взаимодействия между протофашизмом и реакционными художественными практиками: «Реализм Neue Sachlichkeit совершенно очевидным образом апологетичен и столь явно отворачивается от какого бы то ни было поэтического воссоздания реальности, что может легко сливаться с фашистским наследием» [1]. Парадоксально, однако, что и традиционный марксизм, и типичный либерализм освобождают художника от социально-политической ответственности: марксизм через модель отражения с присущей ей историческим детерминизмом, либерализм — через постулирование безграничной и безусловной свободы производства и выражения. Таким образом, обе политические позиции наделяют художника привилегией, подразумевающей неизбежность создания бессознательных репрезентаций мира идеологии.
......... Однако не больше ли оснований предположить неслучайность радикальных изменений межвоенного периода с характерным для них выбором рабочих методов, иконографических отсылок и перцептивных конвенций? Не должны ли мы полагать, что каждый художник, принимая такие решения, осознает не только их последствия, но и то, какую они навязывают ему эстетическую идентификацию и идеологическую репрезентацию?
......... Вопрос, который возникает перед нами: в какой мере переоткрытие и воспроизведение обозначенных режимов репрезентации в сегодняшней живописи Европы рефлексирует идеологическое влияние крепнущего авторитаризма, противостоя ему; или такие практики просто наживаются на все более очевидных политических процессах; или же, что еще печальнее, они сами цинично создают культурный климат авторитаризма, готовя нас к грядущим политическим реалиям?
......... Для того, чтобы анализировать современную ситуацию, полезно понимать, что, помимо коллапса модернистской традиции, имели место и другие прецеденты. Коллапса капиталистической экономики и политики ждали на протяжение всего ХХ века под характерный ритм эстетических манифестаций. Сначала создаются художественные движения с огромным потенциалом для критической деконструкции доминирующей идеологии. Затем их потенциал сводится на нет отдельными авторами внутри самих движений, искусство которых интернализирует угнетение: начинается все с навязчивых образов бессильной и инфантильной меланхолии, а затем, на поздних стадиях, открыто демонстрируется лояльность проявлениям реакционной власти. В сегодняшнем повсеместном восторге от «постмодернизма» и «конца авангарда» не стоит забывать, что коллапс модернистской парадигмы — феномен столь же цикличный, как и кризис капиталистической экономики в политической истории XX века: перепроизводство, контролируемая безработица, необходимость расширять рынки и наращивать прибыль разжигают войны, тайно обещающие окончательное решение всех проблем позднего капитализма. Следует рассматривать современную ситуацию в более широком контексте этих исторических повторений, которые по природе своей суть ответ, реакция на определенные условия за пределами эстетического дискурса.
......... Если не обсуждать эти явления в контексте истории, если не видеть сквозь пыл, с которым нас убеждают со всех сторон, что авангард завершил свою миссию и занял почетное место в ряду плюрализма мнений эстетического маскарада, то критика станет соучастником создания атмосферы отчаяния и пассивности. Идеология постмодернизма будто бы забывает об одновременно скрытом и очевидном политическом давлении, необходимом для спасения существующих структур власти. Только в подобной атмосфере символические режимы реального ожидания трансформируются в аллегорические режимы интернализированной ретроспекции. Тот, кто понимает, что метод аллегории порожден меланхолией, также должен понять, что меланхолия эта навязана запретами и подавлением. Одна из ключевых работ для эстетики постмодернизма и для любой современной теории возвращения аллегории в эстетическом производстве и восприятии, «Истоки немецкой трагедии» Вальтера Беньямина, была написана на заре фашизма в Германии. Автор прекрасно осознавал аллюзии текста на современные ему художественные и политические события, что подтверждает подруга Беньямина Ася Лацис:
......... Он сказал, что не считает эту диссертацию простым академическим исследованием, что она прямо соотносится с острыми проблемами современной литературы. Он прямо настаивал на том, что проводит в диссертации аналогии между барочной драматургией и экспрессионизмом с его поисками формального языка. А потому, сказал он, я в таких подробностях разрабатывал проблемы аллегории, эмблемы и ритуалов [2].
......... Или, как пишет Джордж Стайнер во введении к англоязычному изданию исследования Беньямина:
......... Как в период кризиса Тридцатилетней войны и его последствий, так и в Веймарской Германии, крайняя политическая напряженность и нищета отражались в искусстве и критическом дискурсе. Проведя аналогии, Беньямин в завершении намекает на рекурсивную теорию культуры: эпохи упадка напоминают одна другую не только своими тяготами, но и странной атмосферой риторической и эстетической горячности… Поэтому исследование барокко не просто антикварно-архивное хобби: оно отражает, предсказывает и помогает понять мрачное настоящее [3].
Репрессия и репрезентация
......... Считается, что первые серьезные трудности модернистской идиомы в живописи XX века совпали с началом Первой мировой войны, их знаком стало завершение кубизма и футуризма и разочарование самих художников этих движений в собственных идеалах. Попав в тупик собственной академизации и очевидного истощения исторического значения их работы, Пикассо, Дерен, Карра и Северини (не считая многих других значительных фигур) одними из первых призвали к возвращению традиционные ценности высокого искусства. Дабы скрыть истинное положение дел, они создавали миф нового классицизма, настаивая на продолжении традиции станковой картины — режима производства, возможности которого они сами же незадолго до этого практически исчерпали, но поскольку он при этом сохранил свою товарную ценность, то заслужил тем самым реактуализацию. Ситуация выдала неспособность или упрямое нежелание этих художников признать эпистемологические следствия собственной работы. Уже к 1913 году их идеи получили дальнейшее развитие в искусстве нового поколения художников, работавших с более широкими историческими, социальными и политическими контекстами, что давало им больше возможностей для демонтажа культурных тенет европейской буржуазии. Особенно это относится к Дюшану в Америке, Малевичу и конструктивистам — в России. Но даже в Париже такие художники, как Франсис Пикабиа, видели приближавшуюся кончину кубизма. Вернувшись из первого путешествия в Нью-Йорк в 1913 году, Пикабиа писал: «Но, как ты знаешь, я преодолел эту ступень развития и более не считаю себя кубистом ни в коей мере. Я осознал, что невозможно заставить кубы выражать мысли разума или чувства души» [4]. А в своем «Манифесте школы аморфистов», опубликованном в специальном выпуске журнала Camera Work (1913), Пикабиа выразился еще яснее: «О Пикассо говорят, что он изучает объекты подобно хирургу, рассекающему трупы. Нам больше не интересны эти докучливые трупы, которые зовутся объектами» [5].
......... Даже в 1923 году эта полемика продолжалась в различных кругах парижского авангарда. В ходе премьерного показа «Сердца Газа» Тристана Тцары в Soiree du Coeur ai Barbe в аудитории вспыхнула драка после того, как некий художник выпрыгнул на сцену с криком: «Пикассо пал на поле боя!» [6]. И даже художники, симпатизировавшие кубизму, поняли к концу 20-х годов, что движение исчерпало себя, однако они не призывали к возврату в прошлое. Блез Сандрар, к примеру, в тексте Pourquoi le cube s'effrit? (1919) провозглашал, что формальный язык кубизма себя исчерпал. Вместе с тем, в том же году прозвучало немало идеологизированных оправданий отката к прошлому, который наметился в 1914–1915-х. Среди множества свидетельств новой позиции авторитарного классицизма — памфлет дилера кубистов Леонса Розенберга («Кубизм и традиция», 1920) и текст Мориса Рейналя «О целях кубизма» (написан в 1919, опубликован в 1924), в котором заявляется: «Я по-прежнему верю, что знание Мастеров, верное понимание их работ и уважение к традиции может дать надежное подспорье» [7]. Если вчитаться, это утверждение с его попыткой узаконить академизацию дряхлеющего кубизма уже выдает характерные авторитарные тенденции мифа нового классицизма. И тогда, и сейчас, особую важность для идеологической реакции обретает идеализация «вечных» памятников истории искусства и ее мастеров, попытка учредить новую эстетическую ортодоксию и требование уважения к традиции. Синдрому авторитаризма свойственно обращаться к «вечным» или древним системам правил (законам племени, авторитету истории, наследной линии мастера и т. п.). Эта недоступная история прошлого затем становится экраном, на который можно проецировать конфигурации «провалившегося» исторического настоящего. В 1915 году Пикассо декларировал возвращение к языку репрезентации, представив портрет поэта-кубиста Макса Жакоба (незадолго до того крестившегося в католики), написанного в образе бретонского крестьянина, в манере Энгра. Уже здесь можно заметить, какая степень эклектизма требуется для создания стилистического и исторического подобия классической простоты и баланса, суливших открыть истоки и суть всеобщего человеческого опыта. Позже этот историцистский эклектизм станет художественным принципом, и в итоге его провозгласят новой программой авангарда, как это сделал Жан Кокто в «Призыве к порядку» (1926).
......... Изобилие и гетерогенность стилистических режимов, цитируемых и заимствуемых из архива истории искусства в работах Пикассо усилилось в 1917 году: не только классические портреты Энгра, но и иконография итальянской commedia dell'arte (после посещения Италии вместе с Кокто), фрески Геркуланума (не говоря о скульптуре с фриза Парфенона и белых ваз Лувра, рисунках крестьян Милле, обнаженной натуры позднего Ренуара, пуантилизма Сёра, как отмечали Блант, Грин и другие исследователи Пикассо). И, разумеется, самоцитирование синтетических элементов кубизма, которые с легкостью встраивались в чрезвычайно чувственный декоративный стиль Пикассо начала 1920-х.
......... И вновь наивность Мориса Рейналя дарит нам ключ к этим произведениям, описывая «Трех музыкантов» Пикассо (1921) как «величественную витрину находок и открытий кубизма» [8]. Доступность и взаимозаменяемость этих кубистских элементов свидетельствуют о том, что новый живописный язык — оторванный теперь уже от присущей ему символической функции — претерпел овеществление в качестве «стиля», и все его значение сводится к указанию на себя самое в качестве эстетического товара внутри дисфункционального дискурса. И потому кубизм переходит в ряд категорий художественной продукции, которые по своей природе или враждебны импульсу борьбы против овеществления, или слепы к нему: в категории декора, моды и objets d'art.
......... Этот переход искусства от практик материального и диалектического преодоления идеологии к статичной аффирмации условий овеществления и их подавленных психосексуальных источников Лео Берсани называл началом поворота к режиму аллегории:
......... Это протяженность конкретного внутри памяти и фантазии. Но отрицая желание, мы получаем неподвижный и обездвиживающий тип абстракции. Вместо имитации процесса бесконечных подмен (неуемное «путешествие» желания среди различных изображений), абстракция трансцендирует сам процесс желания. А мы идем дальше, к искусству аллегории [9].
......... Это становится более очевидным в иконографии группы Pittura Metafisica, основанной де Кирико и бывшим футуристом Карра около 1913 года. Пересмотрев собственные взгляды, футуристы, как и кубисты, обрели не только благоговение перед культурной традицией прошлого — начинали они с яростной антипатией к таковой — но и новую иконографию из навязчиво, бесцельно сгруппированных объектов повседневности, дотошно прописанных по канонам репрезентативности. Де Кирико описывал свои картины как театральные сцены, где должны произойти неизбежные, неведомые и угрожающие события, и настаивал на том, что в объектах репрезентации скрываются демоны: «Произведения метафизического искусства кажутся приятными. Но преследует ощущение, что в этом приятном мире нечто должно произойти» [10]. Де Кирико рассуждает о трагедии радости, которая есть лишь затишье перед бурей, и холст для него становится сценой — на ней разыграется будущая катастрофа. Как отмечал итальянский историк Умберто Силва, «Де Кирико — это воплощение итальянской болезни: фашизм еще не пришел, но его заря пугает» [11].
......... Как и «преображенный» Пикассо, футуристы полностью отреклись от своих ранних нерепрезентативных методов, от операций фрагментации и молекуляризации изображения. Затем они отказались от техник коллажа, позволивших совмещать на холсте материалы и методы различной природы — техники, с помощью которых эти авторы в прошлом подчеркивали взаимосвязь эстетическим феноменов с общественно-политическим контекстом. Совершенно неслучайно одна из первых картин Северини, знаменующих его возвращение к истории, называется «Материнство» и изображает женщину, кормящую грудью младенца в традиционной позе Мадонны. Еще более яркий пример — Карра, который стал одним из самых важных художников футуризма, благодаря разработке немиметических изобразительных знаков, программному преодолению вербальных и визуальных кодов путем включения вербальных фрагментов в изображение, механизации процессов производства картин, которым он противопоставлял изображения отходов механического производства. В те годы Карра перешел к репрезентативному изображению библейских сцен в манере тосканской живописи.
Искусство, история и маэстро
......... Точно так же, как переоткрытие истории решает авторитарную задачу нарисовать поражение модернизма, терминологический атавизм «мастерства» художника реинкарнируют ради восстановления культуры эзотерической элиты, гарантируя право этой элиты на продолжение культурной и политической доминации. Язык самих художников (или, точнее, этих конкретных художников, поскольку в то же время в Советском Союзе разрабатывалось прямо противоположное определение художественного производства и культуры), выдает глубокую связь эстетического мастерства и авторитарного господства. Можно проиллюстрировать такую эстетическую позицию тремя примерами из разных десятилетий:
......... Истерия и дилетантство обречены на погребальные урны. Я верю, что всех пресытил дилетантизм в политике, в литературе и в живописи (Джорджо де Кирико, 1919) [12].
......... Социализм изобрели исключительно для посредственностей и слабаков. Вы можете представить себе социализм или коммунизм в Любви или в Искусстве? Вас бы, наверное, загоготали — но еще сильнее страх того, куда это все ведет (Францис Пикабиа, 1927) [13].
......... И наконец печально известное высказывание Пикассо (1935):
......... Необходима абсолютная диктатура… диктатура живописцев… диктатура одного живописца… чтобы подавить всех, кто нас предал, подавить предателей, подавить уловки, подавить маньеризмы, подавить колдовство, подавить историю, подавить кучу всего прочего [14].
......... Как у дряхлых правителей, упорно держащихся за власть, упрямство и озлобленность старых художников росли прямо пропорционально их осознанию несостоятельности собственных попыток спасения культурной практики, потерявшей жизнеспособность. Очевидно, тот же механизм авторитарного отчуждения действовал и когда бывший дадаист из Германии Кристиан Шад в начале 1920-х годов стилизовал изображения бомонда и демимонда Веймара под ренессансный портрет, заложив основы Neue Sachlichkeit, и когда Казимир Малевич в 1933 году писал себя с женой в костюмах эпохи Возрождения. В 1926 году Шад дает подробное описание наиболее характерных признаков этого синдрома:
......... О, так легко отрицать Рафаэля. Потому что так сложно быть хорошим художником. А только хороший художник способен хорошо рисовать. Никто не станет хорошим художником, просто умея рисовать хорошо. Хорошим художником нужно родиться… Италия открыла мне глаза на мою художественную волю и способности… В Италии искусство старо, а старое искусство часто новее искусства нового [15].
......... Идеализация живописного ремесла, гипостаз культуры прошлого, служащей фиктивным источником успешных решений и достижений, недоступных настоящему, прославление «иной» культуры — в данном случае итальянской — все эти принципы, вновь обсуждаемые и практикуемые сегодня, возникают снова и снова в первые тридцать лет модернизма XX века. Они призваны остановить модернизм, отказывая ему в исторической обязательности, лишая общественную жизнь и историю динамики путем радикального авторитарного отчуждения от этих процессов. Важно понять, как художники рационализируют данные симптомы в период их возникновения, как затем их легитимируют историки искусства, и как они в конце концов интегрируются в идеологию культуры.
......... Концепции «эстетического парадокса» и «нового», присущие авангардной практике, объясняют эти противоречия. Вот как, к примеру, Кристофер Грин оправдывал неоклассицизм Кокто и Пикассо:
......... Возвращение к нарративной ясности и романной форме для Кокто не означало отрицание парадокса, как и возвращение к репрезентации в живописи. Действительно, представляется вероятным, что в некоторой мере, именно следуя чувству парадокса Пикассо отказался от антирепрезентативной догмы кубизма, воскресив в 1915 году Энгра… Кокто пишет, что, если дерзость становится конвенциональной, как в парижском авангарде, то восстановление старых методов может создать особый тип нового: художник, обернувшийся к прошлому, сумеет заглянуть еще дальше в будущее. Прямые свидетельства сознательного стремления Пикассо создать такой парадокс, отсутствуют, но остается факт… того, что, взглянув назад, он создал новое, что его ненормативный подход к смешению синтетического кубизма и репрезентативных стилей в период 1917–1921-х годов был просчитанным способом открыто привести парадокс в его прогрессивном движении вспять к наивысшему из возможных достижений [16].
Карнавал стиля
......... Поразительно, насколько антимодернистские установки (или стоит сказать, клише аисторичного мышления?) Кокто напоминают аргументы против авангардной практики в сегодняшних обсуждениях постмодернизма. Стереотип о «конвенциональной дерзости» авангарда, конечно же, используется теми, кто стремится выдать собственный консерватизм за вид дерзновения (Кокто во времена «Призыва к порядку» обратился в католичество). Они скрывают тот факт, что сама конвенционализация есть лишь способ заткнуть рот любой форме критического отрицания; они жаждут разделить блага, которыми буржуазная культура одаривает тех, кто поддерживает ложное сознание в том виде, в каком оно воплощается в культурных конвенциях. В плане же исторического эклектизма, близость современной фигурации неоклассицистам 1920-х впечатляет еще более. Требуется изощренная интеллектуальная акробатика, чтобы идеологической установке, конструкту, который определен экстремальными социально-политическими факторами, придать облик естественной исторической необходимости. Что бы ни понимал Грин под «прогрессивным движением назад», или под «парадоксом в качестве нового», сколь ни скрывал он за восхвалением «извращенного развития» непонимание последствий своего желания сохранить восприятие мастера как того, кто неизбежно движется от вершины к вершине — несмотря на все это, когда мы читаем нижеследующие строки, становится уже совершенно ясно, что маневры историка не способны объяснить противоречия:
......... Его [Пикассо] работа периода 1917–1921-х годов, от бодрого синтетического кубизма и до размеренного классицизма, вновь и вновь убеждала, что Пикассо не заботился о собственном стиле, разделяя идею Кокто о «стиле». Яркие цветные плоскости кубизма подходят для сияющего карнавала «Арлекина» (1918), фигуративная мощь римской фрески и «Мадам Муатессье» Энгра подходят для монументально-непоколебимой «Женщины с книгой»; подразумевалось, что любой стиль, старый или новый, Пикассо мог адаптировать к собственным нуждам, подчинить своей воле [17].
......... Стиль, столь драгоценный овеществленному художественно-историческому мышлению, байки о возможности автономного функционирования художественного метода или дискурсивной практики — все, что художники отрицали, теперь используется для придания исторического значения отработанным методам. All the wasms have become isms — вот вульгарная современная вариация на тему историцизма, предложенная Чарльзом Дженксом, самопровозглашенным спикером архитектурного постмодерна.
......... Так стиль становится идеологическим эквивалентом товара: его универсальная меновая ценность, его свободная доступность свидетельствуют об историческом периоде герметизации и застоя. Когда эстетическому дискурсу дозволяется только лишь поддерживать собственную систему распространения и циркуляции его товарных форм, нас не должно удивлять, что все «дерзости входят в привычку», что картины начинают походить на витрины магазинов, украшенных историческими фрагментами и цитатами.
......... Среди множества отличительных черт этого эклектизма ни одна не является случайной; они связаны сложной сетью исторических значений, которую, впрочем, можно распутать не так, как предполагали авторы или хотела бы аудитория и искусствоведы, обеспечивающие ее культурную рецепцию. Подобная трансформация субверсивной функции эстетического производства в откровенную аффирмацию неизбежно проявляется в каждой детали произведения. Один из очевидных моментов — открытие «истории» как сокровищницы, из которой можно заимствовать отброшенные стилистические элементы. В такой перспективе более понятно таинственное увлечение Пикассо и его современников иконографией итальянского театра. Арлекины, пьеро, паяцы и пульчинеллы заполонили в начале 1920-х работы Пикассо, Бекманна, Северини, Дерена и других (а в середине 1930-х они возникают даже в работах бывшего русского конструктивиста/производственника Родченко), выдавая усиление регрессии. Они служат символами меланхолической инфантильности художника-авангардиста, который осознал собственное историческое поражение. Клоун представляет собой социальный архетип художника в образе бессильной, покорной, развлекательной фигуры, чья субверсивность и смех разыгрываются в недиалектической одержимости утопической идеей [18].
......... Этот карнавал эклектики, это театрализованное зрелище, эта витрина самоцитирования распахивается как маскарад отчуждения от истории, как возвращение вытесненного под маской культуры. Для функционирования историцизма с его статичным пониманием истории требуется компоновка различных фрагментов исторических воспоминаний и мистификаций, подобранных в соответствии с тем, насколько эти образы прошлого открыты для проекций и идентификаций с нуждами настоящего. В отличие от модернистского коллажа, где различные фрагменты и материалы опыта представлены открыто и обнажаются в качестве трещин, пустот, неразрешимых противоречий, несводимых конкретностей, чистой гетерогенности, образы историцизма преследуют обратную цель — синтеза, создания иллюзорной целостности и тотальности, которая скрывает свою историческую детерминированность и обусловленную партикулярность [19]. То, что представляется целостной изобразительной репрезентацией, однородной в своем методе, материале и стиле, вероломно предлагает в качестве эстетического удовольствия ложное сознание и наоборот. Если модернистское произведение предоставляет зрителю перцептивные ключи ко всем использованным материалам, процедурным, формальным и идеологическим качествам, согласно самой программе модернизма, что обеспечивает зрителю опыт усиленного присутствия и собственной автономии, то произведения историцизма претендуют на успешное разрешение модернистской дилеммы эстетического самоотрицания, партикуляризации и ограничений на детали через отсутствие, и это ведет к соблазнительному господству большого Другого над зрителем — что Юлия Кристева описывала как опыт отчуждения и искажения, который идеология навязывает субъекту.
Возвращение нового
Похоже, что в то время, как структура смыслообразования в искусства реорганизовалась, рынок лишь немного потрясло, а затем он набрал былой темп. Семидесятые, возможно, стали реваншистским периодом: аппараты влияния внутри аудитории и рыночных элит перегруппировались, чтобы восстановить стратификацию публики и объектов, подтвердив, например, уникальный статус живописи как искусственного источника смысла и материального вложения.
......... Марта Рослер. Зрители, покупатели, дилеры, производители:
размышления об аудитории
размышления об аудитории
......... Перцептивные и когнитивные модели, как и соответствующие методы художественного производства, функционируют подобно либидинальному аппарату, который создает, использует и воспринимает их. Исторически их жизнь протекает независимо от исходных контекстов и обретает особую динамику: им можно с легкостью придать новые смыслы и адаптировать к нуждам идеологии. Исчерпавшись и уступив место новым моделям, эти режимы производства могут порождать ностальгию, подобно иконической репрезентации устаревшего кода. Потеряв свою историческую роль и значение, они не исчезают, но скорее плывут по истории, как пустые суда, на которые могут перейти нуждающиеся в культурной легитимации реакционные интересы. Подобно другим объектам культурной истории, режимы эстетического производства могут быть оторваны от своих контекстов и функций, и использованы для демонстрации богатства и власти апроприировавшей их социальной группы.
......... При этом, чтобы придать устаревшим методам смысл и историческую силу, требуется представить их радикальными и новыми. Одержимость, с которой такие регрессивные феномены провозглашаются инновативными, выдает скрытое понимание их изношенности. «Новый дух живописи», «Новые фовисты», «Наив-нуво», «Нуво-нуво», «Итальянская новая волна» — вот несколько бирок, красовавшихся на недавних ретроградных выставках современного искусства (как будто бы префикс «нео-» не означал реставрации существовавших прежде форм). В этом отношении примечательно, что неоэкспрессионисты, получившие теперь столь широкое признание в Европе (можно ожидать их скорого успеха и в США), в родной Германии уже двадцать лет находились на художественной периферии. «Новизна» тут состоит именно в том, что они пришлись ко двору конкретному историческому моменту, новизна эта не связана с какими-либо инновациями в художественной практике.
......... Как правило, легче заметить историческую специфику иконографии, чем методов или материалов. Так, до недавнего времени казалось недопустимым в качестве аутентичного выражения частного или коллективного опыта рисовать святых и клоунов, обнаженные женские тела и пейзажи. В менее заметных аспектах живописи и скульптуры, однако же, подобных правил не сложилось. Эмоциональные мазки и густые слои краски, контрастные цвета и черные контуры все еще считались «живописными» и «выразительными» спустя двадцать лет после того, как работы Стеллы, Раймана и Рихтера показали, что живописный знак не прозрачен, что это закодированная структура, которая не может служить неопосредованным «выражением». В любом случае повторение превращает физиогномику такого «полного спонтанности» живописного жеста в пустой механицизм. В недавно вновь зазвучавших одах «энергичности» читается лишь чистое отчаяние, — за ним скрыто предчувствие мгновенного овеществления аполитичных, недиалектичных эстетических практик с таким наивным понимания освободительного потенциала.
......... Однако намерения художников и их апологетов еще лишь предстоит понять, поскольку вопреки их уверенности в психических универсалиях, они на самом деле «выражают» лишь нужды определенной, очень ограниченной социальной группы. Если «экспрессивность» и «чувственность» вновь становятся критериями эстетической оценки, если мы снова сталкиваемся с картинами возвышенного и гротеска — взаимодополняющих типах опыта в культурных объектах высокого модернизма — то восстанавливается такое понимание сублимации, согласно которому работа индивида определяется отчуждением, лишением и утратой. Этот процесс хорошо описан Лилиан Робинсон и Лизэ Фогель:
......... Страдание изображается как частная борьба, протекающая в изоляции. Отчуждение становится героической болезнью, от которой в социуме нет лекарства. За иронией прячется смирение с ситуацией, которую невозможно изменить или контролировать. Человеческая ситуация представлена статичной: отдельные внешние формы меняются, но вечная тоска остается. Любая политическая система будто бы приводит к власти некоторую небольшую группу, и, как следствие, смена властной группировки не влияет на наши «реальные» (то есть частные) жизни… Проще говоря, элементы буржуазной идеологии играют очевидную роль в сохранении статус-кво. Рождаясь внутри системы, завязанной на корпоративной гонке за прибылью, идеи буржуазии подразумевают полное бессилие индивида, бессмысленность общественной деятельности и необходимость отчаяния [20].
......... Высокая культура модернизма канонизировала эстетические конструкты через термин «возвышенное»: и в случае, когда художники доказали свою способность поддерживать утопическое мышление вопреки условиям овеществления, и тогда, когда художники стремились не изменить эти условия, но просто перенести субверсивные намерения в эстетическое измерение. Индивидуальная беспомощность и отчаяние присущи уже самой покорности, с которой возвращаются к традициям живописного ремесла, и присущи тому циничному смирению с историческими ограничениями, с их материально, перцептивно и когнитивно примитивными формами смыслообразования.
......... Живопись такого рода, которую определенная публика считает чувственной, экспрессивной и энергичной, разыгрывает и прославляет ритуал мгновенного возбуждения и всегда-отложенного удовлетворения, что и составляет буржуазный режим опыта. Эта буржуазная модель сублимации — против которой, разумеется, выступала авангардная традиция негации, или радикального отрицания свойственных такой модели злодеяний: абсолютного разделения труда и специализации сексуальных ролей, — находит адекватное выражение в повторяющемся возвращении исчерпанных изобразительных практик репрезентативности и экспрессии. Неслучайно Бальтюс — чьи скопофилические картины, изображающие спящих или ничего не подозревающих обнаженных женщин, сделали его королем буржуазного вкуса к высококультурным ласкам — в настоящее время снова на волне популярности и считается одним из патриархов «новой» фигуративности. Как не случайно и то, что среди немецких неоэкспрессионистов или итальянского Arte Ciphra нет ни одной женщины. Сегодня, когда все сферы культурного производства если не борятся, то хотя бы осознают дискриминаторный характер традиционного разделения ролей, основанного на конструировании половых различий, современное искусство (по крайней мере, его часть, которая сегодня получаетвидное место в музеях и на рынке) возвращается к концепциям психосексуальной организации, возникшим одновременно с формированием буржуазной личности. Буржуазная трактовка авангарда как области героической мужской сублимации работает в качестве идеологического дополнения и культурной легитимации социального угнетения. Лора Малви анализирует данный феномен в контексте «визуального удовольствия» от кинематографа:
......... В патриархальной культуре женщина — это означающее другого для мужчин, ограниченное символическим порядком, в котором мужчина может выплескивать свои фантазии и обсессии, при помощи языкового господства навязывая их немому образу женщины, все еще прикованной к своему месту носителя значений, но не их производителя [21].
......... Макс Козлофф рассматривает этот феномен непосредственно в контексте визуального искусства:
......... Дальнейшие поиски могут дать новые доказательства того, что зрелость часто уравнивается с освоением пространства или мастерским закрашиванием поверхности. Метафора расширения скульптуры или борьбы с холстом легко сексуализируется, поскольку объединяет две желанные цели, ассоциирующиеся с энергией творения. В особой ауре которого мы всегда остаемся согласно теории экспрессионизма, германского и американского… Иконография модернистского искусства, разумеется, изобилует образами маскулинной агрессии и деперсонализации женщины [22].
......... Отказ делать живопись сексуальной метафорой произошел приблизительно к 1915 году и подразумевал не только формальные и эстетические изменения, но и критику традиционной модели сублимации. Это хорошо заметно в интересе Дюшана к андрогинности и в стремлении конструктивистов заменить режим индивидуального мастерства производственной системой, которая ориентировалась бы на коллективную и утилитарную практику. И наоборот, живописные практики, наивно подразумевающие, что жесткие контуры, контрастный цвет и густой слой краски суть прямые (неопосредованные, некодированные) репрезентации желания художника, пропагандируют традиционную ролевую модель; и делают они это куда эффективнее, чем живописные практики, в рамках которых систематически исследуются собственные процедуры. Привлекательность и успех практик первого типа, их роль в иерархии визуальных искусств и влияние на представления о высокой культуре, завязаны на их подчинении соответствующим моделям психосексуальной организации. Кэрол Дункан описала взаимосвязь психосексуальных и идеологических концептов, и то, как живописный экспрессионизм начала XX века скрывал и транслировал их:
......... Как следует из их картин, освобождение художника означает порабощение других; его свобода требует их несвободы. Подразумеваемые этой живописью женско-мужские отношения — радикальное низведение женщин до объектов особых мужских интересов — воплощают базовые классовые отношения капиталистического общества на уровне сексуальности. На самом деле, эти образы суть яркие метафоры того, как их конечные покупатели, богатые коллекционеры поступают с людьми более низкого положения в общественной или сексуальной иерархии. В то же время, если художник выбирает позицию, в которой женщины — лишь средства достижения его целей, если он эксплуатирует их для проявления своей вирильности, он в свою очередь вынужден торговать собой — иллюзией самого себя и своей интимной жизни — на открытом, конкурентном рынке авангарда. Он (или его дилеры и критики) должен продвигать ценность своего особенного кредо, подлинности своего особого взгляда и, самое главное, свой неподдельный антибуржуазный антагонизм. В конечном итоге, он вынужден обслуживать и зависеть от удовольствия этого самого буржуазного мира или его просвещенной части — мира, который его искусство и его жизнь, казалось бы, отрицают [23].
......... Ввиду того, что сама эта сексуальная и художественная роль овеществлена, peinture — фетишизированный режим художественного производства — может взять на себя функцию эстетического эквивалента и обеспечить соответствующую культурную идентификацию зрителя. Потому неудивительно, что и неоэкспрессионизм из Германии, и итальянское Arte Ciphra во многом полагались на живописные стили, предшествовавшие двум ключевым поворотам в истории искусства XX века: фовизм, экспрессионизм и Pittura Metafisica — перед Дюшаном и конструктивистами; сюрреалистский автоматизм и абстрактный экспрессионизм — перед Раушенбергом и Манцони. Это два основополагающих момента в искусстве модерна, когда процесс живописного производства был радикально проблематизирован, и место органического единства, ауры и присутствия заняли гетерогенность, механические операции и серийность.
......... Современные откаты «постмодернистской» живописи и архитектуры напоминают в своем иконическом эклектизме неоклассицизм Пикассо, Карра и прочих. Самые разные производственные режимы и эстетические категории, как и лежащие в их основе перцептивные конвенции, вырываются из их исходных исторических контекстов и инкрустируются в доступное зрелище. Они постулируют опыт истории как частной собственности; их функция — декорум. Кричащая фривольность, с которой эти произведения подчеркивают свое понимание эфемерности собственной функции, не может скрыть материальные и идеологические интересы, которые они обслуживают; как не может их агрессивность и бравада скрыть исчерпанность культурных практик, которые они пытаются сохранить.
......... Современные работы итальянских художников через цитаты недвусмысленно апеллируют к историческим способам производства, иконографии и эстетическим категориям. Их техники варьируются от фрески (Клементе) до бронзовых отливок (Чиа), от чрезвычайно стилизованных примитивистских рисунков до абстрактных жестов. Иконографические отсылки включают репрезентацию святых (Сальво) и модные цитаты из российского конструктивизма (Чиа). Столь же пестро они оркеструют программу неработающих пластических категорий, порой вписывая их в сценарии эстетической избыточности: фигуративная круглая скульптура сочетается с акватинтовыми гравюрами, монументальные фрески — с небольшими холстами, рельефные конструкции — с иконическими объектами.
......... Неоэкспрессионисты Германии столь же продуктивны в своем поиске устаревших методов производства, включая даже аляповатые скульптуры в духе примитивистской резьбы по дереву, что копирует экспрессионистский парафраз «примитивного» искусства (Иммендорф). Процветают переизобретенные древние тевтонские графические техники, ксилогравюра и линогравюра (Базелиц, Кифер), и соответствующая иконография: обнаженная натура, натюрморты, пейзажи и то, что эти художники считают аллегорией.
......... Фетишизации живописи в культе peinture сопутствует фетишизация перцептивного опыта ауратического произведения. Хитрость с аурой необходима этим работам для того, чтобы считаться предметами роскоши в воображаемой высокой культуре. В реальности ауратического, переданного рукодельными текстурами поверхности, аура и товар сливаются. Только такая синтетическая уникальность способна удовлетворить презрение, которое буржуазная личность испытывает к «вульгарностям» социального существования; и только такая «аура» может обеспечить «эстетическое удовольствие» нарциссическому расстройству личности, возникшему из этого презрения. Мейер Шапиро обнаружил эту симбиотическую связь между некоторыми художниками и их покровителями в 1935 году: «Часто приписываемый художникам антагонизм по отношению к организованному обществу не приводит к конфликту с покровителями, поскольку и те и другие презирают публику и безразличны к практической общественной жизни» [24].
......... Эстетическая привлекательность описанных эклектичных живописных практик коренится в их ностальгии по тем моментам прошлого, когда художественные методы, к которым они отсылают, обладали исторической значимостью. Но над всеми современными попытками восстановить фигуративность, репрезентацию и традиционные способы производства парит призрак вторичности. Причина не столько в том, что они работают с какими-то конкретными прецедентами, а скорее в том, что сама попытка воскресить отринутые эстетические позиции мгновенно определяет их историческую вторичность. Такова цена быстрого успеха, достигнутого поддержанием статус-кво под видом инновации. Основная функция подобных культурных репрезентаций состоит в утверждении иерархий идеологического господства.
Национальная идентичность и защита от подделок
…но европеец давно уже бездомен, он deracine, но поскольку он никак не способен был принять этого, не имел смелости признать этого, он превратился в parvenu. Быть парвеню означает продолжать притворяться, будто весь мир твой дом…
Отто Фрейндлих, Bulletin D, 1919
......... Если raison d'etre историцистского произведения обнаруживается в частной собственности и украшении дискурса, в котором последняя себя декларирует и поддерживает, то естественно, что само произведение имеет черты клише: навязчиво повторяющиеся жесты теряют значение и застывают в гротеске. Помимо устаревших и стереотипных концепций роли и личности художника; помимо фетишизированных условий, операций и материалов, о которых мы говорили, эти клише легко опознаются в призыве художников вернуться к национальной культуре, к ее «корням и законам».
......... Призыв Карра к «итальянскости» в 1920-х повторяется сегодня в итальянской и германской живописи в виде претензий на национальную культурную идентичность. Однако экономическая функция подобных претензий заключается в защите товара в условиях роста конкуренции на международном рынке искусства. Об их идеологической функции писал Фредрик Джеймисон в ином контексте:
......... Национальная аллегория должна пониматься как формальная попытка перебросить мост через растущую пропасть между экзистенциальными фактами повседневной жизни в конкретном национальном государстве и структурной тенденцией монопольного капитала к всемирной, по сути, транснациональной экспансии… [25].
......... Коммерческая культура (мода, реклама и т. п.) переоткрыла для себя историю как неисчерпаемый ресурс фиктивных идентичностей и субъективностей, и точно так же регрессивные практики «высокого» культурного производства поставляют предметы роскоши, рассчитанные под идентичности и субъективности класса управленцев. Когда Ленин сказал, что «национальность и отечество — неотъемлемые формы буржуазной системы», он едва ли представлял, что «история» однажды тоже окажется в этом ряду. Ностальгия художественного производства по своим собственным былым условиям соответствует ностальгии этого класса по некогда имевшим место процессам собственной индивидуации в период исторического господства.
......... Призыв вернуться к фикциям национальной и культурной идентичности, который мы находим в регрессивном искусстве 1920-х, сегодня звучит от неоэкспрессионистов и Arte Ciphra. Частые отсылки к позднему де Кирико и живописной манере работ Сирони 1920-х характерны для итальянской живописи, тогда как современные художники Германии ссылаются на изобразительные особенности и художественные методы немецкого экспрессионизма.
......... Для современного западногерманского искусства естественно в условиях формирования мифа культурной идентичности ссылаться на экспрессионизм, особенно в пику американскому искусству, доминировавшему на протяжении всего периода реконструкции. После Второй мировой войны росло признание экспрессионизма, «германской интуиции» живописи модернизма начала XX века. Конечно, именно такого положения он был лишен в период между Первой мировой войной и до его окончательного подавления фашистами. Но в начале 1960-х резкий рост цен показал, что экспрессионизм получил статус национального достояния, лучшей части культуры Германии дофашистского периода. В отличие от политически радикального берлинского дада, экспрессионизм представлял авангардную позицию, приемлемую для вновь сформировавшегося верхнего среднего класса, и потому он стал главным объектом исторических исследований, коллекционирования и спекуляций. Аполитичная, гуманистическая позиция художников экспрессионизма, их преданность делу духовного возрождения, их критика технологии и романтизация экзотического и базового опыта прекрасно соответствовали запросу на искусство, предлагавшее духовное спасение от повседневного опыта отчуждения, свойственного динамике реконструкции послевоенного капитализма.
......... Современные неоэкспрессионисты — которым сейчас около сорока — учились в тот самый период у художников, которые сами лишь недавно открыли пост-сюрреалистический автоматизм через art informel и абстрактный экспрессионизм. Первые «скандальные» успехи отдельных представителей этого поколения приходятся на ранние 60-е, когда они «осмелились» вернуть фигуративные сюжеты и сверхэкспрессивные жесты и краски в искусство. Их «смелость» состояла, таким образом, именно в преданности зарождавшемуся мифу немецкого культурного наследия и национальной идентичности через приятие традиционной роли художника и в сознательном игнорировании или отрицании всех эстетических, эпистемологических и философских достижений начала века.
......... Изначально — то есть в начале-середине 60-х — некоторые из этих художников создавали достаточно интересные произведения: ранние работы Иммендорфа в Дюссельдорфской академии и его более поздний хеппенинг LIDL, первые работы восточногерманского «примитивиста» Пенка. Но попав на рынок и в музеи, эти художники рационализировали стиль, что и породило «движение» неоэкспрессионизма. Первым шагом стал возврат к крупноформатной станковой картине. Ради этого пришлось пожертвовать как эксцентричностью эстетики, так и любыми отсылками к наработкам XX века, которые конкурировали с живописной практикой. Следующим шагом стало сведение различных уникальных практик художников в гомогенный стиль неоэкспрессионизма.
......... По понятным причинам, неоэкспрессионисты и их апологеты отрицают прямую связь с наследием немецкого экспрессионизма, поскольку их живописная эрудиция и амбиции жаждут ассимиляции художественных стандартов Нью-Йоркской школы и созданной ею экономической ценности. Любое искусство, стремящееся свергнуть с престола американское искусство путем программного возвращения к национальной традиции, преуспеет на рынке лишь в случае признания господства «иностранного» стиля. В конце концов, то, что послевоенная европейская живопись так и не достигла «уровня» Нью-Йорка, было ее основной проблемой (точно так же, как, если верить Гринбергу, главной задачей американской живописи перед войной было достижение «качества» парижской школы). Особенно это заметно в работе неоэкспрессиониста Георга Базелица, чьи холсты своим размером, масштабом, рисунком и живописным жестом не менее близки к экспрессионизму абстрактному, чем к экспрессионизму германскому.
......... Успешная институционализация неоэкспрессионизма требовала сложных и тонких маневров от рынка и музеев. К примеру, необходимо было сконструировать историческую преемственность для легитимизации неоэкспрессионистов в качестве наследников немецкого культурного богатства. Недавний пример построения такой идентификации — зрелищный экземпляр Geschichtsklitterung (эклектичный историцистский конструкт), «Первый эскиз скульптуры» Базелица. Масштабная сидящая фигура, вырубленная из блока черного дерева, поднимает правую руку — враждебные критики увидели в этом фашистское приветствие; она была недавно показана в лондонской галерее Whitechapel. Скульптура экспонировалась в окружении поздних триптихов Макса Бекманна, что учреждало историческую преемственность, родословную немецкого искусства. Так, признание подлинности локального товара позволяет преуспеть на международном рынке.
......... Вторая стратегия, дополняющая эту надуманную линию национального родства, состоит в умелом позиционировании работы в контексте современного интернационального авангарда. Например, репродукция картины неопримитивиста Пенка появляется на обложке каталога недавней выставки итальянских художников Фабро, Кунеллиса, Мерца и Паолини в Кунстхалле города Берна — одной из цитаделей неоэкспрессионизма. И уже совершенно откровенно в предисловии к каталогу директор музея предлагает объединить работы этой группы действительно важных итальянских художников с неоэкспрессионистами, которые описаны как их «нордическая» аналогия. Таким образом, интеллектуальная острота и аналитическая ясность этих итальянских художников переносится на реакционное искусство Германии, тогда как в действительности их коллегами в этой стране являются, разумеется, Дарбовен, Палермо и Рихтер.
Критические клише, сфабрикованные видения
Социальные корни беспомощности [историцизма]: фантазия буржуазии более не сосредоточена на будущем продуктивных сил, высвобожденных ею. Особый Gemütlichkeit середины века проистекает из этого обусловленного исчезновения общественной мечты. Желание иметь детей — лишь слабый стимул в сравнении с образами будущего, которые однажды порождало общественное воображение.
Вальтер Беньямин, «Центральный парк»
......... Когда искусство, апеллирующее к национальной идентичности, пытается выйти на международный рынок, приходится применять самые изношенные исторические и геополитические клише. Поэтому мы и видим сегодня столкновение понятий нордического и средиземноморского, тевтонского и латинского. Типичная формулировка идейного клише «германского характера» возникает в комментарии искусствоведа на работу одного художника-неоэкспрессиониста: «Склонность искусства Германии к литературности, к глубоким аллегориям, идеологическому символизму, мистицизму и экстазу буйной фантазии находит здесь свое выражение» [26].
......... Подобно тому, как само искусство использует клише в качестве надежной стратегии работы в устаревших контекстах, выступающие глашатаями «нового искусства» критики и кураторы воскрешают критический язык ложной наивности и напыщенных тривиальностей, формируя терминологию новой субъективности. Особенно красноречиво отсутствие исторической специфики, методологической рефлексии, умышленное игнорирование радикальных нововведений других исследовательских полей, влияющих на эстетическую практику (семиология, психоанализ, критика идеологии). В качестве примера приведем рассуждение британского историка искусства и куратора Николаса Сероты о манере одного неоэкспрессиониста, который
......... …выбрал будто бы довольно традиционный для живописи жанр — пейзаж. Он создал своего рода театр, в котором абсурдные предметы, эмблемы, аллегории и метафоры используются для реинтерпретации универсалий, таких как сотворение и пробуждение жизни, столкновение сил природы, человеческих эмоций и идеологий, опыт смерти. Можно обратиться к прошлому и сравнить [работу] с триптихами Бекманна, хотя последний использует нарративную структуру совершенно иначе [27].
......... Руди Фукс, голландский историк искусства и директор одного из музеев Европы, наиболее активно выставляющих современное искусство, прибегает к еще более сильным гиперболам:
......... Живопись — это спасение. Она предлагает свободу мысли, является ее триумфальным выражением… Живописец — это ангел-хранитель, несущий миру палитру благословления. Возможно, живописец — любимец Богов [28].
......... А вот цитата из текста историка искусства Зигфрида Гора, опубликованного лондонской галереей Whitechapel:
......... Живопись вновь показывает связь красоты и ужаса, эроса и смерти, этих благородных тем искусства. В качестве тем вновь возникают негативность и смерть [29].
......... Нехватка формальной и исторической сложности в произведениях художников, и сопутствующее отсутствие настоящего критического анализа их надуманных «видений» ведут к неизбежной стереотипизации критического языка. Вот, например, два практически идентичных заявления двух критиков, пишущих о разных художниках:
......... Содержание мотивов, которые вновь и вновь использует Георг Базелиц в своих картинах, не столь важно. Они приобретают значение исключительно в его изобразительном методе как формальные отправные точки [30].
......... Ценность мотива в этих картинах Люперца заключается только в том, как он использует их в качестве отправной точки для создания чего-то осмысленного [31].
......... Как и в случае призывов к закону, звучавших из уст регрессивных художников 1920-х, сегодня все более очевидно нарастает агрессивность, сопровождающая пропаганду таких клишированных образов и языка. После смерти либерализма, ничто уже не сдерживает его оборотную сторону — авторитаризм. Он приходит под видом иррациональности и идеологии индивидуальной экспрессии. Борясь с общественной и политической сознательностью, протофашистский либертарианизм готовит себе путь к захвату государственной власти. В отсутствие анализа причин неудачи Просвещения, завершение модернизма и вынужденное замалчивание его критического потенциала используются для оправдания пораженческих стратегий.
......... Приведем программные заявления, где в пастиш из Делёза — Гваттари, Штирнера и Шпенглера упакована страстная защита заимствованных идей мелкобуржуазного анархизма в Arte Ciphra:
......... Arte Ciphra предъявляет себя как искусство крайнего субъективизма… Те, кто даже в начале 1970-х все еще верил в неизбежный и скорый коллапс капитализма (посредством критики и разоблачений), разочаровались сильнее других… Теперь гораздо важнее разработать новые формы, относящиеся к чистой интенсивности, к неделимости желания и к его бессознательным фиксациям. Желание, таким образом, обретает революционную роль. Однако, поскольку само желание всегда является частью бесконечно сложных и амбивалентных взаимозависимостей, его конкретные фиксации должны рассматриваться во всей их полноте, даже если они отчасти «регрессивны», «буржуазны» или «нереволюционны»… Искусство 1970-х отрицало неудачу буржуазного просвещения, уже давно признанную в политической и идеологической мысли… Arte Ciphra пытается задать режим «здесь и сейчас»… Их цель противоположна утопической, это атопия — открытие другого в непосредственном настоящем [32].
......... А вот пример откровенно протофашистского языка итальянского критика:
......... Новая сила искусства рождается именно из этого напряжения, превращая отношения количества в отношения интенсивности. Произведение возвращается от социальной маргинальности к центральной роли индивидуальности, восстанавливая средствами образа творческие потребности в противовес бесформенному туману общественных нужд [33].
......... Вместо того, чтобы признать собственное банкротство и необходимость политических перемен, такое откровенно элитистское понимание субъективности в итоге предпочитает уничтожить ту самую историческую и культурную реальность, на обладание которой претендует. Скрытая склонность к разрушению как разрешению противоречий, осмыслять которые можно исключительно в политических, а не культурных терминах, выдает себя в катастрофических фантазиях. Эта атмосфера конечности — когда конец класса принимают за конец света — порождает апокалиптические и некрофилические видения в высоком искусстве, которые потом распространяются во всей культуре. В итоге, самоуничтожение рассматривается как героизм. Подобные тенденции обнаруживаются опять-таки в живописи неоэкспрессионизма и его дискурсе:
......... Таков один из величайших тиранических жестов в эстетике: император сжигает город ради создания нового, более величественного. Эта тема принадлежит, разумеется, более широкой топологии, которая известна от начала времен: обновление и очищение огнем… Огонь убивает, но при этом очищает [34].
......... Или такой пример:
......... В прошлом году… Мы с Люперцем побывали в крематории на окраинах Рулебена. Мы тихо шли по широкой дороге к современному крематорию, и вдруг… столп черного дыма медленно потянулся из труб. Внезапно тишина взорвалась залпом винтовок — стреляли по взводу британских артиллеристов, укрывшихся за крематорием. Обычное для Берлина совпадение. В крематории висела пара картин Люперца… Они обладают качеством универсальной истины [35].
......... Историческая «достоверность» этих работ заключается, таким образом, как раз в торможении и регрессии, которую они разворачивают: продолжающееся господство устаревшего. В патетичном фарсе их навязчивых действий мы все еще можем рассмотреть трагическую неудачу оригинальных форм протестного экспрессионизма. В притворстве и мимикрии современного неоэкспрессионизма мы можем увидеть послеобраз того анархического и субверсивного, но в конечном счете аполитичного радикализма, который был обречен на неудачу, на порабощение теми самыми силами, которым он противостоял. Лукач описал этот механизм так:
......... Мифологизация проблем позволяет человеку не обращать внимания на феномены, которые критикуют как часть капитализма, или же представляет капитализм в такой искаженной, мистифицированной форме, что критика не противостоит проблемам, а самодовольно паразитирует на системе; переворачиваясь, такая критика даже позволяет вывести аффирмативную позицию, идущую из «души»… Несомненно, экспрессионизм -- лишь одно из многих буржуазных течений, которые в итоге приводят к фашизму, и его роль в идеологической подготовке не более и не менее значительна, чем у течений эпохи империализма — в той мере, в какой они содержат декадентские паразитические черты, включая и все фальшивые революционные и оппозиционные силы… Эта схизма глубоко укоренена в сути антибуржуазного экспрессионизма, и абстрагирующее обеднение содержания не просто отражает тенденции экспрессионизма — это с самого начала является его центральной, непреодолимой стилистической проблемой, поскольку крайняя содержательная бедность обозначила вопиющее противоречие его претенциозных выступлений, смешанного субъективного пафоса его репрезентации [36].
......... Фальшивый авангард современной европейской живописи сегодня выигрывает от невежества и надменности шумного сборища культурных парвеню, которые считают своим долгом восстановить в правах политику крайнего консерватизма путем его культурной легитимации.
......... Перевод Сергея Огурцова
Примечания:
1 Lukács Georg. Работы «Проблема реализма» у него нет. В оригинале тоже только это название упоминается в самом тексте. P. 147.
1 Lukács Georg. Работы «Проблема реализма» у него нет. В оригинале тоже только это название упоминается в самом тексте. P. 147.
2 Lacis Asja. Revolutiondr im Beruf / ed. by Hildegard Brenner. Munich, 1971. P. 44.
3 Steiner George. Introduction // Walter Benjamin. The Origin of German Tragic Drama. London, 1977. P. 24.
4 Picabia Francis. Comment je vois New York // Francis Picabia. Paris, 1976. P. 66.
5 Picabia Francis. Manifeste de l'Ecole Amorphiste// Francis Picabia. Paris, 1976. P. 68.
6 See Rubin William. Pablo Picasso: A Retrospective. New York: Museum of Modern Art, 1980. P. 224.
Даже те историки искусства, кто изначально поддерживал работу Пикассо, со временем осознали спад его влияния: «Пикассо принадлежит прошлому… Его крах стал одной из самых горьких проблем нашего времени» (Germain Bazin, цит. по Rubin William. Pablo ... P. 277).
Даже те историки искусства, кто изначально поддерживал работу Пикассо, со временем осознали спад его влияния: «Пикассо принадлежит прошлому… Его крах стал одной из самых горьких проблем нашего времени» (Germain Bazin, цит. по Rubin William. Pablo ... P. 277).
7 Raynal Maurice. Quelques intentions du cubism // Bulletin de l'effort modern. 1924. No. 4. P. 4.
8 Там же.
9 Bersani Leo. Baudelaire and Freud. Berkeley, 1977. P. 98.
10 de Chirico Giorgio. Uber die metaphysische Kunst // Wir Metaphysiker. Berlin, n.d. P. 45.
11 Silva Umberto. Kunst und Ideologie des Faschismus. Frankfurt, 1975. P. 18.
12 de Chirico Giorgio. Valori Plastici, Nos. 3-4. Rome, 1919.
Впервые это явление встречается в заявлении де Кирико Pictor sum classicus (Великий классический художник), которым он выразительно завершает призыв вернуться к закону истории и классическому порядку в манифесте под названием «Возвращение к ремеслу», опубликованном в Valori Plastici (1919). Как и Карло Карраи в Pittura Metafisica (опубликованном в том же году), де Кирико не просто требует возвращения к «классической» традиции и к ее «мастерам» (Уччелло, Джотто, Пьеро делла Франческа), но к конкретной национальности этой традиции. Это наиболее очевидный из трех исторических подлогов в авторитарной конструкции возврата-к-прошлому, поскольку национальное государство как социально-экономическая и политическая система порядка не существовало во времена тех самых мастеров. Логично поэтому, что имя Карраи оказывается среди художников, подписавших «Манифест фашистской живописи» в 1933-м году, где можно найти такие строки: «Фашистское искусство отрицает исследование и эксперименты… Стиль фашистского искусства должен ориентироваться на античность». По-видимому, с нарастанием авторитаризма в настоящем проекция в прошлое отодвигается все дальше и дальше — в данном случае от Ренессанса к античности. Еще более отчетливо эта подмена настоящей истории мнемозическими иллюзиями истории прошлого проступает в эссе Альберто Савинио, опубликованном в Valori Plastici (1921): «Память рождает наши мысли и наши надежды… мы навеки преданные и верные сыны Памяти. Память — это наше прошлое, а также прошлое всех других людей, всех тех, кто жил раньше нас. А раз память — это упорядоченное воспоминание наших и чужих мыслей, то память наша религия: religio». Когда французский искусствовед Жан Клер пытается осмыслить данные явления вне их исторического и политического контекста, его терминология, призванная прояснить эти противоречия и спасти их для нового реакционного антимодернистского искусствознания, вынуждена прибегнуть к таким же клише авторитаризма, отечества и наследия предков: «[Эти художники] хранят наследие своих предков, даже не собираясь отвергать его… Неоклассицизм существует как размышление о ссылке, вдали от потерянного отечества, одновременно и потерянной родины живописи» (Clair Jean. Metafisica et Unheimlichkeit // Les Realismes 1919–1939, Paris: Centre Georges Pompidou, 1981. P. 32).
Впервые это явление встречается в заявлении де Кирико Pictor sum classicus (Великий классический художник), которым он выразительно завершает призыв вернуться к закону истории и классическому порядку в манифесте под названием «Возвращение к ремеслу», опубликованном в Valori Plastici (1919). Как и Карло Карраи в Pittura Metafisica (опубликованном в том же году), де Кирико не просто требует возвращения к «классической» традиции и к ее «мастерам» (Уччелло, Джотто, Пьеро делла Франческа), но к конкретной национальности этой традиции. Это наиболее очевидный из трех исторических подлогов в авторитарной конструкции возврата-к-прошлому, поскольку национальное государство как социально-экономическая и политическая система порядка не существовало во времена тех самых мастеров. Логично поэтому, что имя Карраи оказывается среди художников, подписавших «Манифест фашистской живописи» в 1933-м году, где можно найти такие строки: «Фашистское искусство отрицает исследование и эксперименты… Стиль фашистского искусства должен ориентироваться на античность». По-видимому, с нарастанием авторитаризма в настоящем проекция в прошлое отодвигается все дальше и дальше — в данном случае от Ренессанса к античности. Еще более отчетливо эта подмена настоящей истории мнемозическими иллюзиями истории прошлого проступает в эссе Альберто Савинио, опубликованном в Valori Plastici (1921): «Память рождает наши мысли и наши надежды… мы навеки преданные и верные сыны Памяти. Память — это наше прошлое, а также прошлое всех других людей, всех тех, кто жил раньше нас. А раз память — это упорядоченное воспоминание наших и чужих мыслей, то память наша религия: religio». Когда французский искусствовед Жан Клер пытается осмыслить данные явления вне их исторического и политического контекста, его терминология, призванная прояснить эти противоречия и спасти их для нового реакционного антимодернистского искусствознания, вынуждена прибегнуть к таким же клише авторитаризма, отечества и наследия предков: «[Эти художники] хранят наследие своих предков, даже не собираясь отвергать его… Неоклассицизм существует как размышление о ссылке, вдали от потерянного отечества, одновременно и потерянной родины живописи» (Clair Jean. Metafisica et Unheimlichkeit // Les Realismes 1919–1939, Paris: Centre Georges Pompidou, 1981. P. 32).
13 Francis Picabia contre Dada ou le Retour ai la Raison // Comoedia. 1927. March 14. P. 1.
Эссе «Возвращение к разуму» и «Возвращение к порядку» не только практически идентичны программам авторитарного неоклассицизма, но и метят в одних и тех же врагов. Один из них, конечно же, дада, потому будет уместно в таком контексте вспомнить позиции литератора-неоклассициста Т.С. Элиота относительно дада: «Г-н Олдингтон считал к г-на Джойса мессией хаоса и стонал, видя своим пророческим оком, как потоп дадаизма низвергается по одному взмаху посоха волшебника… Самая замечательная книга может оказать самое дурное влияние, конечно же… Гений несет ответственность перед своими коллегами, а не перед мастерской, набитой необразованными и недисциплинированными пижонами» (Eliot T.S. Ulysses, Order and Myth // The Dial, vol. LXXV [1923]. P. 480–483).
Эссе «Возвращение к разуму» и «Возвращение к порядку» не только практически идентичны программам авторитарного неоклассицизма, но и метят в одних и тех же врагов. Один из них, конечно же, дада, потому будет уместно в таком контексте вспомнить позиции литератора-неоклассициста Т.С. Элиота относительно дада: «Г-н Олдингтон считал к г-на Джойса мессией хаоса и стонал, видя своим пророческим оком, как потоп дадаизма низвергается по одному взмаху посоха волшебника… Самая замечательная книга может оказать самое дурное влияние, конечно же… Гений несет ответственность перед своими коллегами, а не перед мастерской, набитой необразованными и недисциплинированными пижонами» (Eliot T.S. Ulysses, Order and Myth // The Dial, vol. LXXV [1923]. P. 480–483).
14 Пикассо Пабло. Беседа с Кристианом Зервос // Cahiers d'Art. 1935. Vol. X. No. 1 P. 173.
15 Шад Кристиан // Каталог выставки Galerie Wiirthle, Вена, 1927. Там же см. практически идентичное заявление бывшего экспрессиониста Отто Дикса: «Для меня, новое начало живописи состоит в интенсификации форм выражения, которые в сжатом виде уже даны в работах старых мастеров» (Das Objekt ist das Primdre. Berlin, 1927). Сравните со словами Георга Гроша, коллеги Шада и Дикса: «Возвращение к французской классицистской живописи, к Пуссену, Энгру и Коро — тайное стремление Бидермейера. Кажется, что за политической реакцией следует реакция интеллектуальная». (Ответ на опрос Пола Вестхайма «К новому натурализму?» в Das Kunstblatt, 1922.)
16 Green Christopher. Léger and the Avant-Garde. New Haven; London; Yale University Press, 1976. P. 218.
17 Там же.
18 Макс Бекманн, назвав себя в двадцатых «одиноким клоуном и загадочным королем», выразил бессознательную дилемму художника, колеблющегося между авторитарной властью и меланхолией. Как пишет Георг Штайнер во введении к «Истоку немецкой трагедии»: «Принцем и марионеткой управляет одна и та же леденящая жестокость» (название книги P. 18). Ренато Поггиоли описал эту дилемму без адекватного понимания: «Зная, что буржуазное общество смотрит на него лишь как на шарлатана, художник сознательно и нарочито принимает роль комика. Отсюда возникает миф о художнике-паяце, художнике-шуте. В чередовании крайностей самокритики и жалости к себе художник начинает считать себя комичной жертвой, а порой жертвой трагической, последнее встречается чаще». (Poggioli Renato. The Artist in the Modern World // The Spirit of the Letter. Cambridge, 1965. P. 327).
Чаще новоявленной иконы клоуна в живописи того периода возникают разве что образы манекена, деревянной куклы, овеществленного тела, пришедшие из той же витрины и реквизита мастерской классического художника. Если образ клоуна появляется в контексте карнавала и цирка, как маскарад отчуждения от истории настоящего, то манекен выходит на сцену овеществления. Приняв во внимание исторические изменения, параллельные этому явления мы обнаружим и в иконографии «Новой живописи». Это хорошо описано в следующем примере: «Комический и самоуничижительный аспекты… раздуваются до огромных размеров и сжимаются до микроскопических в работах многих современных художников. Лилипутское население растет: миниатюризация, куклы из прутиков, дырявые куклы, крошечные уродцы и человекоподобные потомки Крейзи Кэт; синдром кукольного домика по-прежнему с нами» (Kertess Klaus. Figuring It Out // Artforum. 1980. November. P. 30). А вот более подходящее критическое понимание этих явлений: «Еще один из многих ироничных (?) отказов от виртуозности и „чувственного": с недавних пор художники склонны к редуцированному фигуративу а-ля ар-брют (будто бы заимствованному из лексикона страдающих крайними формами психических заболеваний), и нигилизм здесь направлен не против какого-либо конкретного общества, но против „цивилизации" — знакомый шаг отчаяния» (Марта Рослер, неопубликованные заметки о цитировании).
Чаще новоявленной иконы клоуна в живописи того периода возникают разве что образы манекена, деревянной куклы, овеществленного тела, пришедшие из той же витрины и реквизита мастерской классического художника. Если образ клоуна появляется в контексте карнавала и цирка, как маскарад отчуждения от истории настоящего, то манекен выходит на сцену овеществления. Приняв во внимание исторические изменения, параллельные этому явления мы обнаружим и в иконографии «Новой живописи». Это хорошо описано в следующем примере: «Комический и самоуничижительный аспекты… раздуваются до огромных размеров и сжимаются до микроскопических в работах многих современных художников. Лилипутское население растет: миниатюризация, куклы из прутиков, дырявые куклы, крошечные уродцы и человекоподобные потомки Крейзи Кэт; синдром кукольного домика по-прежнему с нами» (Kertess Klaus. Figuring It Out // Artforum. 1980. November. P. 30). А вот более подходящее критическое понимание этих явлений: «Еще один из многих ироничных (?) отказов от виртуозности и „чувственного": с недавних пор художники склонны к редуцированному фигуративу а-ля ар-брют (будто бы заимствованному из лексикона страдающих крайними формами психических заболеваний), и нигилизм здесь направлен не против какого-либо конкретного общества, но против „цивилизации" — знакомый шаг отчаяния» (Марта Рослер, неопубликованные заметки о цитировании).
19 Эти «скрытые коллажи» в живописи олицетворяют фиктивное слияние. Фредрик Джеймисон описывает аналогичные попытки унификации в литературе: «…мираж связности личной идентичности, организующей целостность психики и личности, самой концепции общества и, не в последнюю очередь, понятие органического единства произведения искусства» (Fables of Aggression. Berkeley, 1980. P. 8). Термин «нарисованные коллажи» использовал Макс Эрнст в тексте Au-dela de la Peinture (1936) для описания картин Магритта и Дали. Разумеется, Эрнст не мог предвидеть историческое разделение между оригинальными техниками коллажа и попытками восстановить живописное единство фрагментации, трещин и прерываний пластического языка. После Эрнста несколько авторов описывали феномен «нарисованного коллажа» в неоклассицистской живописи с их характерным нереальным пространством, плоскость и живописное пространство которых будто бы сделаны из стекла или льда (см., например, Schmied Wieland."Pittura Metafisica et Nouvelle Objectivit // Les Realismes. 1919–1939. P. 22.) Конечно же, это пространственная конфигурация статичного опыта меланхолии, одержимого авторитарными образами чужого и древнего, — этот опыт и узнает себя в мерцающей плоскости классицистской картины, где жизнь заперта в склепе. Один из самых запоминающихся образов этой идеализированной классической красоты дан в стихотворении Бодлера «Красота»:
О смертный! как мечта из камня, я прекрасна!
И грудь моя, что всех погубит чередой,
Сердца художников томит любовью властно,
Подобной веществу, предвечной и немой.
В лазури царствую я сфинксом непостижным;
Как лебедь, я бела, и холодна, как снег;
Презрев движение, любуюсь неподвижным;
Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек.
(пер. В. Брюсова)
О смертный! как мечта из камня, я прекрасна!
И грудь моя, что всех погубит чередой,
Сердца художников томит любовью властно,
Подобной веществу, предвечной и немой.
В лазури царствую я сфинксом непостижным;
Как лебедь, я бела, и холодна, как снег;
Презрев движение, любуюсь неподвижным;
Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек.
(пер. В. Брюсова)
20 Robinson Lillian, Vogel Lise. Modernism and History // New Literary History. Vol. III. No. 1. P. 196.
21 Mulvey Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema // Screen. 1975. Vol. XVI. N o. 3. P. 7.
22 Kozloff Max. The Authoritarian Personality in Modern Art // Artforum. 1974. Vol. XII. No. 8. P. 40.
23 Duncan Carol. Virility and Domination in Early Twentieth Century Painting // Artforum. 1974. Vol. XII. No. 9. P. 38.
24 Schapiro Meyer. Цит. по Kozloff Max. The Authoritarian Personality…
25 Jameson Fredric. Fables of Aggression. Berkeley, 1980. P. 94.
26 Gohr Siegfried. Remarks on the Paintings of Markus Lüpertz // Markus Lüpertz: 'Stil' Paintings. London: Whitechapel Gallery, 1979, n. p.
27 Serota Nicholas (ed.). Markus Lüpertz: 'Stil' Paintings. London: Whitechapel Gallery, 1979.
28 Fuchs R.H. Anselm Kiefer: exhibition catalogue. Venice Biennale, 1980. P. 62.
29 Gohr Siegfried. Op. cit.
30 Fuchs R.H., Georg Baselitz-Bilder 1977-1978. Eindhoven, Van Abbemuseum, 1979, n.p.
31 Gohr Siegfried. Op. cit.
32 Faust Wolfgang Max. Arte Ciphra: exhibition catalogue. Cologne, 1979. P. 14.
33 Oliva Achille Bonito. The Bewildered Image // Flash Art. 1980. Nos. 96–97. P. 35.
34 Fuchs R.H. Anselm Kiefer… P. 57.
35 Serota Nicholas. Op. cit.
36 Lukács Georg. Größe und Verfall' des Expressionismus // G. Lukács. Schicksalswende: Beiträge zu einer neuen deutschen Ideologie. Berlin: Aufbau-Verl., 1948. P. 116.